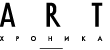Влекут за собой…







Григорий Зимин. Без названия. Конец 1920-х. Серебряно-желатиновый отпечаток. Частное собрание
Николай Кулешов. Без названия. 1930-е. Серебряно-желатиновый отпечаток. Частное собрание
Николай Петров. Портрет комсомолки. 1928. Серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание МАММ
Александр Гринберг. Без названия. 1920-е. Бромойль. Частное собрание
Неизвестный автор. Татьяна Мякота. 1930-е. Серебряно-желатиновый отпечаток. Частное собрание
Григорий Зимин. Без названия. Конец 1920-х. Серебряно-желатиновый отпечаток. Частное собрание
Эммануил Евзерихин. Девушка с веслом. Парк культуры и отдыха им. Горького, Москва, 1936. Серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание МАММ
Москва, 26.04.2013—26.05.2013
выставка завершилась
Поделиться с друзьями
Куратор: Павел Хорошилов
О выставке
Точное, многозначное название придумал Павел Хорошилов для выставки, репрезентирующей одну из линий своего фотособрания: женское в сталинскую эпоху. Телесность обнаженная и запрятанная в прозодежду. Влечение сексуальное и влечение к социальному равноправию, огосударствленное властью и позволяющее передовой советской женщине увлекать за собой массы в едином трудовом порыве. И, наконец, репрессивный контекст: ответственность за противоправное высвобождение сексуального, неминуемо влекущее за собой меры социальной защиты — статьи Уголовного кодекса. Изменились времена и нравы, канули в лету идеологические догмы и амбициозные прожекты по переделке мира и человека... Но простое рассматривание черно-белых фотографий знаменитых и безвестных мастеров вызывает какую-то немузейную, тем более не архивную реакцию: живое соприкосновение со страхами и страстями, массовыми порывами и стойким желанием сохранить во что бы то ни стало, двигаясь в обобществленной телесной лаве, что-то свое, частное, запретно интимное... Словом, есть в этих фотографиях что-то такое, что по-прежнему влечёт за собой сопереживание...
Экспозиционная история хронологически начинается с ню русских пикториалистов. Собственно, они продолжали в новых, советских условиях установку, которой следовали с начала века. В последние десятилетия ХIХ века фотография обнаженной натуры бытовала в полуподвальном этаже не только художественной культуры, но собственно — эротического жанра, статус которого был полузапретный, существование — потаенным <...> Русская фотография, в процессе осознания своих целей и возможностей, высвободила жанр фотографии обнаженного тела от функциональных пут и обязательств культурного и нравственного «полуподвала». <...> Однако социально-политическая ситуация, в которой оказались пикториалисты, стремительно менялась. И дело даже не в их взаимоотношении с фотоавангардом — явлением, вытеснявшим их со сцены актуального искусства.
Необратимо менялась атмосфера времени. Нет, не то чтобы понятие «сексуальность» вытеснялось из общественного сознания. Напротив, дискуссии по поводу пролетарского Эроса, инициированные амазонками марксистского феминизма А.Коллонтай, Л.Рейснер, К.Цеткин, не сходили с повестки дня. <...> При этом в борьбе «за новые, более совершенные, полные и радостные отношения между полами» единой линии еще не было выработано. Тем не менее, дискурс вполне можно было охарактеризовать словами той же Коллонтай — «Отношение между полами и классовая борьба». В этом дискурсе традиционной, индивидуализированной, «человечной» чувственности пикториализму места явно не было. <...> Тем не менее, пикториалисты продолжали работать. <...> Они достигли нового уровня репрезентации эмоциональности. Их ресурс в этом плане был так основателен, что Гринберг, принадлежащий к младшему поколению пикториалистов, вплоть до тридцатых годов обращался к поэтике оптических, эмоциональных и психологических импрессий. Вместе с тем он пошел много дальше в том, что я бы назвал интимизацией жанра обнаженной натуры. Это момент особенно важный. Вектор развития советской фотографии обнаженной натуры был принципиально иным. Это был вектор на обобществление телесного. Здесь сочетались, причем часто неожиданно, самые разные установки.
Уже упоминавшиеся марксистские феминистки оперировали понятием класс, что само по себе исключало индивидуальные эксцессы сексуальности. В тридцатые годы государство вообще взяло курс на строгий контроль над общественной нравственностью. <...>
Но парадоксальным образом и творческая ситуация противилась индивидуальному раскрепощению сексуального. Здесь были свои истоки. Классический русский авангард, помимо прочего, декларировал радикальное усекновение «старо-человеческого» (сюда, естественно, входило и сексуальное): «будетляне» и «земляниты» русского авангарда, при всех своих достоинствах, бесполы. Более того, в текстах Малевича, например, навязчиво повторяются «антителесные» мотивы: мясо, корсеты, стягивающие женские телеса, разжиревшие заигрывающие Эроты и пр. <...>
Советский фотоавангард в целом также можно назвать антителесным. С очень важной корректировкой: он был равнодушен к индивидуальной, интимной телесности. Ему был в высшей мере свойствен пафос служебности, функциональности, орудийности. Разумеется, все эти «большие батальоны» неразумно было бросать в бой за «интимные отношения» отдельных людей. Служить классу — одно дело, репрезентировать отношения индивидуальностей, — совсем другое. Не индивидуальное, но коллективное тело — вот что занимало советский фотоавангард. <...>
Вторая ипостась выставки — женское, запрятанное в прозодежду, в униформу. Женщина на производстве — заводском ли, сельском, домашнем. Тщательно подобранные фотоработы М.Пенсона, М.Калашникова, В.Ковригина, О.Кнорринга, Э.Евзерихина и неизвестных фотохудожников. Обычно кураторы, репрезентирующие советское телесное, идут простым путем: выносят на люди феномен тоталитарной фотоэротики — арт-продукцию, обладающую «всеми половыми признаками» и — бесполую, свидетельствующую о здоровом общественном гедонизме и — не способную вызвать индивидуальные желания, символизирующую торжество здоровой, тренированной, хорошо организованной плоти.
Так обычно строятся экспозиции, посвященные тоталитарной телесности. <...> Организаторы выставки не пошли по простому пути. Они не фиксируются на «смытом эротическом»: напротив, отбирают живые вещи, когда речь идет об обнаженной натуре. А когда речь идет о «скрытом эротическом» (телесное в униформе), показывают нечто неканоническое. Это — редкий в эпоху стереотипов ракурс конкретно женственного: не функция — доярка, спортсменка, работница. Не «ударница Сидорова», точка в «орнаменте массы», а, вспомним Кракауэра, «отдельная личность с собственной душой». И, добавим, с собственным телом. Это хорошая, хоть и не эффектная внешне работа: отбор личного в море типологического. <...>
Между тем власть все круче заворачивала в сторону запретов. Стоило А.Гринбергу в своих фотографиях обнаженной натуры немного сместить акценты — на интимность, на потаенность, на загадочность — как он был обвинен в фабрикации порнографии и репрессирован. Порнография вообще стала фобией режима: у обоих сталинских довоенных «наркомов страха» (Ягоды и Ежова) при обыске — и это было обнародовано повсеместно — была обнаружена порнография. Это был сигнал: если уж у таких матерых врагов нашли порнографию... Несанкционированное ню при соответствующих условиях приравнивалось к штыку, обнаженная натура влекла за собой... Ах, обнаженная натура все равно влекла за собой...
Александр Боровский